Галочья гора, расположенная в семи километрах южнее города, как магнит притягивала всех мальчишек, с тех пор как закурились трубы первых поселений, из которых и вырос впоследствии Кокчетав — областной 130-тысячный город.
И меня судьба связала с этой горой давно и накрепко.
Где-то в середине восьмидесятых я с друзьями-охотниками скулибил вездеход — трицикл на пневмоходу.
Камеры на колеса позаимствовали у тракторной тележки. Двигатель приладили от старой инвалидной коляски. Привод на заднее колесо — цепной. Тормозов не предусмотрели, тормозили глушением двигателя. Отменный получился покоритель снега, грязи и бездорожья.
Вот на нем-то вместе с сыновьями (одному десять, другому пять лет) и взбрело мне в голову по весенней распутице и не растаявшим еще снегам съездить на Галочью гору, чтобы испытать вездеход и посмотреть тетеревиные тока (в округе горы их было несколько).
Туда добрались беспроблемно. С южной, более отлогой стороны, въехали, солидно урча, чуть ли не доверху. И тут что-то крякнуло, звякнуло, и встал наш конь, закручинившись, не доскакав до вершины. Цепь крутилась, двигатель исправно работал, но мы стояли на месте.
Подвела шестерня привода задних колес. Дома была запасная, но это семь километров раскисших дорог и весенних ручьев. Да и вездеход здесь не бросишь. Но казак без коня что корова без вымени. Пришлось Сереже, моему старшему сыну, идти за звездочкой в город.
Почти три часа прошли в тревогах и переживаниях. Небо уже стали грязнить дождевые тучи, беспокойство одолевало все сильнее. Больше всего меня пугало небесное ненастье. Стояли совсем не весенние холода, и лужи к утру прихватывал тонкий хрусткий ледок, но дни были теплые, ласковые, солнечные.
И если затаенно постоять под березкой, то можно услышать как наливаются жизненными соками и теплом янтарные по краям, ароматные клейкие почки.
Наконец с горы мы увидели сначала движущуюся точку, а чуть позже рассмотрели и самого Серегу. Он возвращался, но не один. Мало ему было грязи на ногах, так он прихватил еще велосипед, и теперь по беспутице тащился вместе с ним.
Я крикнул ему с горы: «Оставь его, подберем на обратном пути!» Ветер тянул с его стороны, и он не слышал нас. Путь на гору сыну преграждал небольшой овраг, заросший березой, кустами акации и волчанки. В нем он и исчез из виду вместе со своим двухколесным другом. Мы ждали его без всякой тревоги.

Вдруг из низины, где исчез мой сын, раздался крик ужаса. Волосы встали дыбом на моей голове. Что могло случиться?
— Денис, потихоньку, слышишь, не бегом, а только шагом сходи вниз с горы, — втолковывал я своему перепуганному младшему сыну.
Сам бросился к вездеходу — эх, не умрем, живы будем! — толкнул его с горы и прыгнул в седло. Ветер засвистел в моих ушах. Я несся вниз на бестормозном трицикле с ужасающей скоростью. Вездеход на кочках взлетал на воздух, громыхал, приземляясь, и снова летел вниз.
Ветер рвал в клочья крик, летящий снизу, душил дыхание. Но меня Бог спас, и вездеход не подвел, я уже был внизу и бежал изо всех сил на родной голос сына:
— Папа-а! Папа-а-а!
Вот и велосипед, одиноко лежавший на снегу, а вот и Сережа. Снег, мостиком соединяющий два берега довольно глубокой промоины, провалился под тяжестью сына, мутный поток талых вод тянул его вниз, под снег. Кусты, росшие рядом, спасли его жизнь. За них он держался из последних сил, уже не пытаясь вылезти из этой гибельной купели.
Был ли я опрометчив или осторожен в тот момент, не знаю. Но, ломая хрустящий снег, очутился рядом с сыном в ледяном кипятке. Паники не было, была только злость, ноги не достали дна. Течение сразу потянуло под снег. От змеиных объятий студеной весенней воды из горла вырвался крик.
Одной рукой я схватился за куст у основания, другой изо всех сил толкнул сына вверх, на свет Божий. Я смеялся, как идиот, от радости, видя, что Серега был уже выше воды. Он карабкался все выше, а я все смеялся, цепляясь за кусты. Вымахнуть наверх оказалось сущим пустяком…
Очнулся я метрах в двадцати от ледяной душегубки. А вокруг аромат пробудившейся земли, обласканной весной. И каждая травиночка, каждая веточка на дереве тянется к теплу, к солнцу, к жизни. Чуть правее ветер полощет верхушками темных задумчивых сосен в посадке.
Именно из нее выгоняла для меня зайцев вся моя семья. И Анечка, моя четырехлетняя дочка, участвовала в загоне, шла сбоку посадки в синем зимнем пальтишке, доставшемся ей от старшего брата, плача и зовя своего непоседу папашу.

И от этих воспоминаний и мирной весенней картины вокруг холодный ужас захлестнул мою душу от того, что могло произойти. И каменной глыбой в сотню тонн придавил меня к подножию сопки. Меня колотило, но не от холода, больше от ненависти к самому себе.
Моя поездка казалась теперь дикой и бессмысленной. Как можно было так рисковать самым дорогим, что есть и что бывает на белом свете? Серега, мой долгожданный первенец, весь дрожал в колючем ознобе, ежился, прижимаясь ко мне, я же был сам не теплее его и отдать мог только жар своей отцовской души и сердца.
Уже вечерело. Неуютно стало в лесу. Голубизну неба заволокло мятежными свинцовыми тучами. Угрожающая сокрушительная сила виделась в них. Резко похолодало. Зябко заморосил мелкий, колюче царапающий ледяной дождь, охлаждая все надежды на благополучный семикилометровый марш-бросок до родного дома. За себя не боялся, а вот сыновья по вине моей бесшабашности могли серьезно заплатить своим здоровьем.
Покричали Дениса. К счастью, он уже спустился и был недалеко. Быстро подбежал к нам, испуганно замер, увидев нас мокрых, дрожащих и грязных. Хлопая святыми, наивными, налитыми слезами глазенками, он стал оглядываться, ища лужу, из которой мы такие вынырнули. Еще миг, и он расплачется.
— Не ныть, сынок! Ты же казак, донской казак, не ныть! — шепелявил я непослушными от морозной дрожи губами.
Темнота тихой сапой стала скрадывать степь. Время работало против нас. С трудом стянули размокшие, прилипшие к ногам сапоги, вылили воду, первой выжали мою куртку. Прикрывая ею сына от безжалостного дождя, выжали и его одежду.
Избавили от воды, как могли, и мою амуницию. Немедленно нужен был верный друг всего человечества — его величество костер. А вокруг чахлые кусты и тонкие березки, и наломать даже беремя дров в наползающей темноте — долгая, а значит, бесполезная затея. Только движение, бег могут спасти нас. Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем.

Ну что, ребята, при солнце тепло, а при матери добро, а тут ни солнца, ни матери нет, одни грозные тучи. Домой, скорее домой, в родное, уютное тепло, поближе к печке!
Суровая, величавая Галочья гора, угрюмо и молчаливо мутнеющая на фоне угасающего неба, уже не была такой приветливой, как днем, а казалась пугающим огромным зверем, затаившимся перед последним мощным прыжком.
А эти две незамутненные жизнью душонки, дрожа от холода, жались ко мне, как к единственному спасителю. Взял младшего сына на непослушные, одеревеневшие от холода руки — и бегом вперед, только вперед!
Не пробежали мы и ста метров, как наткнулись на груду рваных автомобильных камер, вываленных в поле каким-то «любителем» родной земли. Это было спасение!
— Бегайте, ребята, вокруг этих камер, не останавливайтесь, я мигом! — и бросился назад к вездеходу.
Там, под сиденье, я примостил вместо бардачка обрезанную наполовину десятилитровую пластмассовую канистру. В ней вместе с ключами и отвертками хранился НЗ спичек в целлофане и куске велосипедной камеры.
Костер из камер был копотным, жарким и спасительно огромным, самым драгоценным костром в моей жизни.Тепло разогнало все наши тревоги, будто и не было осатанелого ручья с ледяной водой, весенней грязи и дальней дороги.
Мы бегали вокруг костра, укрывшись от нудного дождя огрызками камер, играли в догонялки, грели то один бок, то другой. Высоко в дождливое небо поднялись крученые, прорезанные огненными языками космы густого чумазого дыма нашего огня-спасителя. Черные хлопья радостными сажными снежинками кружили в воздухе, быстро превращая моих сыновей в папуасиков, а меня в папуаса.
Что там «Операция Ы и другие приключения Шурика»! Это кино. А вот когда мы, мытари-путешествиники, ввалились домой в прожженной одежде, с огрызками автомобильных камер на голове и плечах, черные от сажи, провонявшие жженой резиной и провожаемые злобным лаем своей же собаки, то мать родная, выйдя на шум в темноватый коридор, не узнала своих детей и мужа.
Хлопнулась в обморок, напоследок закричав так, что злющий пес Аргон во дворе, от испуга сорвавшийся с цепи, перемахнул через двухметровый забор и три дня не приходил домой. Отмывались мы несколько дней. Запах резины не проходил долго. Аргон, вернувшись домой, все принюхивался и побрехивал на нас.
Как давно это было! Через девять лет нам пришлось покинуть свою родину, Казахстан, чтобы не вернуться уже никогда. Сумасбродный вулкан перестройки с корнями вырвал многие семьи с родных, обжитых предками мест.
Дьявольская сила бросила в огромный котел перемен многие людские судьбы, а потом разожгла адский огонь под ним, набросала туда зависти, злобы национальной вражды. Подкармливала издевательство бюрократов, не сразу признавших нас за русских.
Только родителей признали русскими, а наших детей нет. Понадобились годы и груды бумаг и справок, чтобы восстановить справедливость.
Если жизнь хилая, то хил и народ. Народ хил — слабое и государство. Не позаботимся о жилье, духовном воспитании, пропитании детей своих, что получим?
Так с горечью думалось мне на Галочьей сопке, куда пришел я через много лет, чтобы поклониться ей, детству и молодости своей. Смотрел на чахлые, уродливо искривленные, пронизанные постоянными ветрами березки и сосенки, пустившие корни в узкие полоски земли в расщелинах скал, не живущие на радость земле, их родившей и вскормившей, а судорожно цепляющиеся за жизнь из последних сил, лишь бы выжить.
А если семена этих деревец бросить на плодородную землю, да полить после посадки, да не пускать никаких козлов, поедающих нежные молодые деревья и веточки, представляете, что за родина у нас была бы? Не злющая мачеха, а Мать родная!
Ну вот, начал про Галочью гору, а получилось про Россию. Но как не думать о земле, на которой живу сам, мои дети и жили наши предки, защищавшие ее, не жалея жизни?!









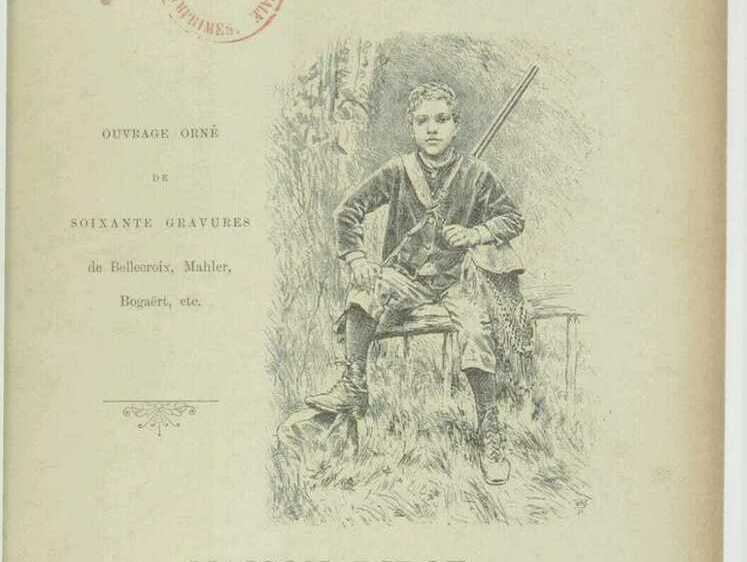




Комментарии (0)